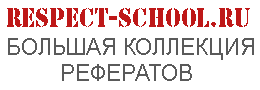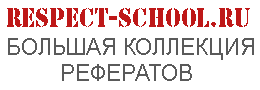Модест Петрович Мусоргский
Модест Петрович Мусоргский
(9.
III. 1839, Карево, Псковская губерния - 16. III. 1881, Петербург)

Г. Маркези
Сын
помещика. Начав военную карьеру, продолжает в Петербурге изучение музыки,
первые уроки которой он получил ещё в Карево, и становится прекрасным пианистом
и хорошим певцом. Общается с Даргомыжским и Балакиревым; в 1858 году выходит в
отставку; освобождение крестьян в 1861 году отражается на его финансовом
благосостоянии. В 1863 году, находясь на службе в Лесном департаменте,
становится членом "Могучей кучки". В 1868 году поступает на службу в
Министерство внутренних дел, после того, как ради поправки здоровья провёл три
года в имении брата в Минкино. Между 1869 и 1874 годами работает над различными
редакциями "Бориса Годунова". Подорвав вследствие болезненного
пристрастия к алкоголю и без того слабое здоровье, сочиняет с перерывами. Живёт
у разных друзей, в 1874 - у графа Голенищева-Кутузова (автора стихотворений,
положенных Мусоргским на музыку, например, в цикле "Песни и пляски
смерти"). В 1879 году совершает очень удачное турне совместно с певицей
Дарьей Леоновой.
Оперы:
Саламбо (1863-1866, 1980), Женитьба (1868, 1917, 1930), Борис Годунов (1874,
1928), Хованщина (1886, 1892), Сорочинская ярмарка (1874-1880, 1911).
Годы,
когда появился замысел "Бориса Годунова" и когда создавалась эта
опера, - основополагающие для русской культуры. В это время творили такие
писатели, как Достоевский и Толстой, и более молодые, как Чехов,
художники-передвижники утверждали приоритет содержания над формой в своём
реалистическом искусстве, воплощавшем нищету народа, пьянство священников,
жестокость полиции. Верещагин создавал правдивые картины, посвящённые
русско-японской войне, а в "Апофеозе войны" посвятил всем
завоевателям прошлого, настоящего и будущего пирамиду из черепов; великий
портретист Репин обращался также к пейзажной и исторической живописи. Что
касается музыки, то самым характерным в это время явлением была "Могучая
кучка", которая поставила своей целью повысить значение национальной
школы, используя народные предания для создания романтизированной картины
прошлого. В сознании Мусоргского национальная школа представала как нечто
древнее, поистине архаическое, неподвижное, включающее извечные народные
ценности, почти святыни, которые можно было найти в православной религии, в
народном хоровом пении, наконец, в том языке, что ещё хранит могучую звучность
далёких истоков. Вот некоторые из его мыслей, высказанные между 1872 и 1880
годами в письмах Стасову: "Ковырять чернозём не впервые стать, да ковырять
не по удобренному, а в сырье хочется, не познакомиться с народом, а побрататься
жаждется... Чернозёмная сила проявится, когда до самого днища
ковырнёшь..."; "Художественное изображение одной красоты, в
материальном её значении, грубое ребячество - детский возраст искусства.
Тончайшие черты природы человека и человеческих масс, назойливое ковырянье в
этих малоизведанных странах и завоевание их - вот настоящее призвание художника".
Призвание композитора постоянно побуждало его повышенно чувствительную,
мятежную душу стремиться к новому, к открытиям, что приводило к непрерывному
чередованию творческих подъёмов и депрессий, с которыми были связаны перерывы в
деятельности или её растекание по слишком многим направлениям. "До такой
степени я становлюсь строгим к себе, - пишет Мусоргский Стасову, -
умозрительно, и чем строже становлюсь, тем делаюсь беспутнее. На
мелкие вещи настроения нет; впрочем сочинение маленьких пьес есть отдых при
обдумывании крупных созданий. А у меня отдыхом становится обдумывание крупных
созданий... так-то всё у меня в перекувырку идёт - сущая беспутность".
Помимо
двух крупнейших опер Мусоргский начал и завершил другие работы для театра, не
говоря уже о великолепных лирических циклах (прекрасное воплощение разговорной
речи) и знаменитых новаторских "Картинках с выставки", которые
свидетельствуют и о его большом таланте пианиста. Очень смелый гармонизатор,
автор гениальных подражаний народным песням, как сольным, так и хоровым,
одарённый необыкновенным чувством сценической музыки, последовательно
внедрявший идею театра, далёкого от условно-развлекательных схем, от сюжетов,
дорогих европейской мелодраме (в основном любовных), композитор придал историческому
жанру жизненность, скульптурную чёткость, обжигающую пламенность и такую
глубину и визионерскую ясность, что всякий намёк на риторику совершенно
исчезает и остаются только образы универсального значения. Никто так, как он,
не культивировал в музыкальном театре исключительно национальный, русский эпос
вплоть до отказа от всякого открытого подражания Западу. Но в глубинах
панславянского языка он сумел найти созвучность страданиям и радостям каждого
человека, которые выразил совершенными и всегда современными средствами.
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.belcanto.ru
|